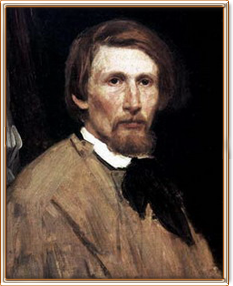Начальство императорской Академии художеств не особенно жаловало Чистякова и не раз пыталось выжить независимого, смелого, справедливого преподавателя. А он боролся, он не мог бросить учеников, которых любил, на которых надеялся - ведь среди них были такие талантливые юноши, как Репин, Васнецов, Суриков, Поленов и многие другие.
Так же как Крамской и Стасов, он не мог не признавать академию школой высокого профессионального мастерства, но постоянно при этом говорил, что надо изучать природу, русскую действительность, глубже вникать в смысл изображаемых событий. "Без идеи, - говорил он, - нет высокого искусства, поэтому все - краски, свет и прочее должно быть подчинено смыслу...
Цвет в картине должен помогать содержанию, а не блестеть глупо-хвастливо".
Когда говорил Чистяков, Васнецову казалось, что он угадывает его мысли, те самые мысли, которые беспорядочно теснились в голове и с которыми он не умел сам справиться. Уходил он от Чистякова всегда просветленный, радостный. "Много тепла и света внесли в мою жизнь разговоры с Павлом Петровичем Чистяковым", - вспоминал он много лет спустя.
Начались первые радостные и вместе мучительные "подступы" к картине. Он рисовал, думал, делал этюды. В первый раз писал он такую многофигурную картину, писал на воздухе. Писать ее было не так просто. Много пришлось ему потрудиться, прежде чем он "расставил по местам всех действующих лиц картины", как говорил он позднее. Он и думать забыл про поучения академических профессоров, про разговоры и споры с товарищами о том, как правильно строить картину, что такое композиция, нужно ли обязательно писать эскизы.
Работа над картиной подвигалась медленно, но упорство и трудоспособность у Васнецова были исключительные, и раз начатое дело он почти всегда доводил до конца. В Вятке, куда он иногда наезжал, чтобы повидать старых друзей, а главное, новую свою знакомую Сашу Рязанцеву, которая ему очень нравилась, все хвалили картину, но сам-то он уже начинал видеть ее недостатки. Она казалась ему несколько перегруженной, и, может быть, надо было сделать ее собраннее, строже. Картину эту он назвал "Нищие-певцы".
В то время как Виктор жил в Рябове и Вятке, в художественной жизни Петербурга происходили необычайные события: был утвержден устав нового Товарищества художественных передвижных выставок - "подвижных выставок", как их тогда называли.
Среди художников только и было разговоров, что о новом товариществе, о первой выставке, которая должна была открыться в Петербурге в конце 1871 года. Васнецов уже тогда видел некоторые, еще не совсем законченные картины в мастерских Крамского,
Максимова и других художников, но на выставке не был. В Вятку доходили вести о выставке, доходили и газетные статьи о ней. Один из приятелей прислал статью В. В. Стасова и Васнецову; после того как он прочел ее. казалось, что он побывал на выставке, видел и картину Ге - "Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе", и "Майскую ночь" Крамского, и "Охотников на привале" Перова, и великолепный "Сосновый лес" Шишкина.
Видел, как "прилетели грачи" на картине Саврасова, как прозрачен воздух, тянутся к солнцу тонкие березки, а за березками - домики, старая колокольня, потемневший снег полей...
Он читал и перечитывал эту статью Стасова, и сердце его наполнялось радостным торжеством: здесь, в Вятке, далеко от Петербурга, от друзей художников он все-таки чувствовал и себя "представителем земли русской от искусства". Он русский художник, и он боец - пусть еще малозаметный - той армии художников, которая наконец вступила в бой с "живыми мертвецами" Академии художеств. Каждый рядовой этой армии бросил в сторону "побрякушки и праздные забавы художеством".
Каждый верит в силу и жизненность искусства, того подлинного искусства, которое всегда побеждает. И как хорошо пишет Стасов о том, что "художники начинают думать уже не только о покупателях, но и о народе; не только о рублях, но и о тех, кто прильнет сердцем к их созданиям и станет ими жить".
В сентябре 1872 года Васнецов вместе с братом Аполлинарием уехал в Петербург. Ехали на лошадях до Казани, по пути заехали к старшему брату Николаю, который учительствовал на заводе. С ним Васнецов давно не видался; проговорили всю ночь, вспоминали детство, Рябово, родных. Наутро поехали дальше.
В Петербург приехали в сырой, туманный день. И снова номер дешевой гостиницы, поиски комнаты по белым билетикам, расклеенным на окнах, маленькая комнатка с самоваром утром и вечером, снятая у хозяйки. Работу нашел Виктор быстро - опять взялся за свои "деревяшки", выполнял разные мелкие художественные заказы, и Аполлинарий старался ему помогать в этом.
Много возился он с картиной "Нищие-певцы", которую не успел окончить в Рябове, а когда ее закончил, то поставил на выставку Общества поощрения художников. Прошла она как-то незаметно, но все же в одном из журналов появилась рецензия, в которой отмечали у художника "замечательную способность схватывать народные типы".
В Петербурге он попал в самую гущу событий. Отзвучали споры и разговоры о первой выставке, которую Перов и Мясоедов перевезли из Петербурга в Москву, затем в Киев, Харьков... Петербургские и московские художники готовились ко второй выставке: ее предполагалось открыть в конце декабря 1872 года. Все волновались, торопились кончать картины, настроение у всех было приподнятое, напряженное.
"Молодость и сила свежей русской мысли царила везде, весело, бодро шла вперед и ломала без сожаления все, что находила устарелым, ненужным... Именно такова была талантливая плеяда русских художников шестидесятых годов..." Они "рвались к самостоятельной деятельности в искусстве и мечтали - о дерзкие! - о создании национальной русской школы живописи", - говорил Репин.
Виктор показывал брату Петербург, водил его в Эрмитаж, заходил вместе с ним в мастерские знакомых художников, и, конечно, прежде всего к Репину. Аполлинария потрясало все, что он видел в Петербурге. "Заряд был довольно сильный для того, чтобы ошеломить такого юнца, как я... - вспоминал он позднее. - В Вятке, в духовном училище, я и не подозревал, что есть где-то какая-то жизнь искусства, охватывающая человека всецело и беззаветно".
Аполлинарию уже исполнилось шестнадцать лет. С детства он был жаден до всего: увлекался геологией, постоянно производил на рябовских обрывах какие-то раскопки, составлял коллекции окаменелостей; занимался с отцом астрономией; много читал, главным образом исторические сочинения; иногда целые ночи просиживал за писанием рассказов и повестей, но больше всего любил рисовать и после приезда брата Виктора окончательно решил стать художником.
В Академию художеств поступить он не мог, у него не было аттестата об окончании средней школы - он окончил только духовное училище. Пришлось спешно готовиться к экзаменам. Помогли знакомые студенты-вятичи: они занимались с ним математикой, географией и другими предметами, нужными для получения документа. Рисованию учил его Виктор.
Учитель он был требовательный, боялся "распустить брата" - его огорчало немного, что Аполлинарий еще не устоялся, разбрасывается. А Аполлинарий говорил о нем позднее: "До конца жизни не забуду, чем он для меня, как художника, был и сколько он мне, как художнику, сделал. Это был учитель, друг, заботливый брат..."
стр.1 -
стр.2 -
стр.3 -
стр.4 -
стр.5 -
стр.6 -
стр.7 -
стр.8 -
стр.9 -
стр.10 -
стр.11 -
стр.2 -
стр.13 -
стр.14 -
стр.15 -
стр.16 -
стр.17 -
стр.18.
Продолжение...